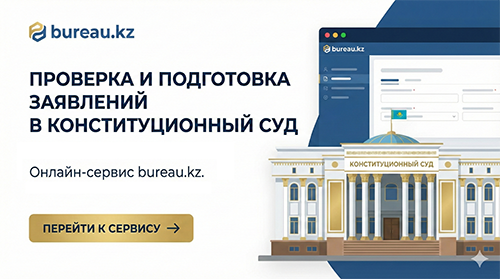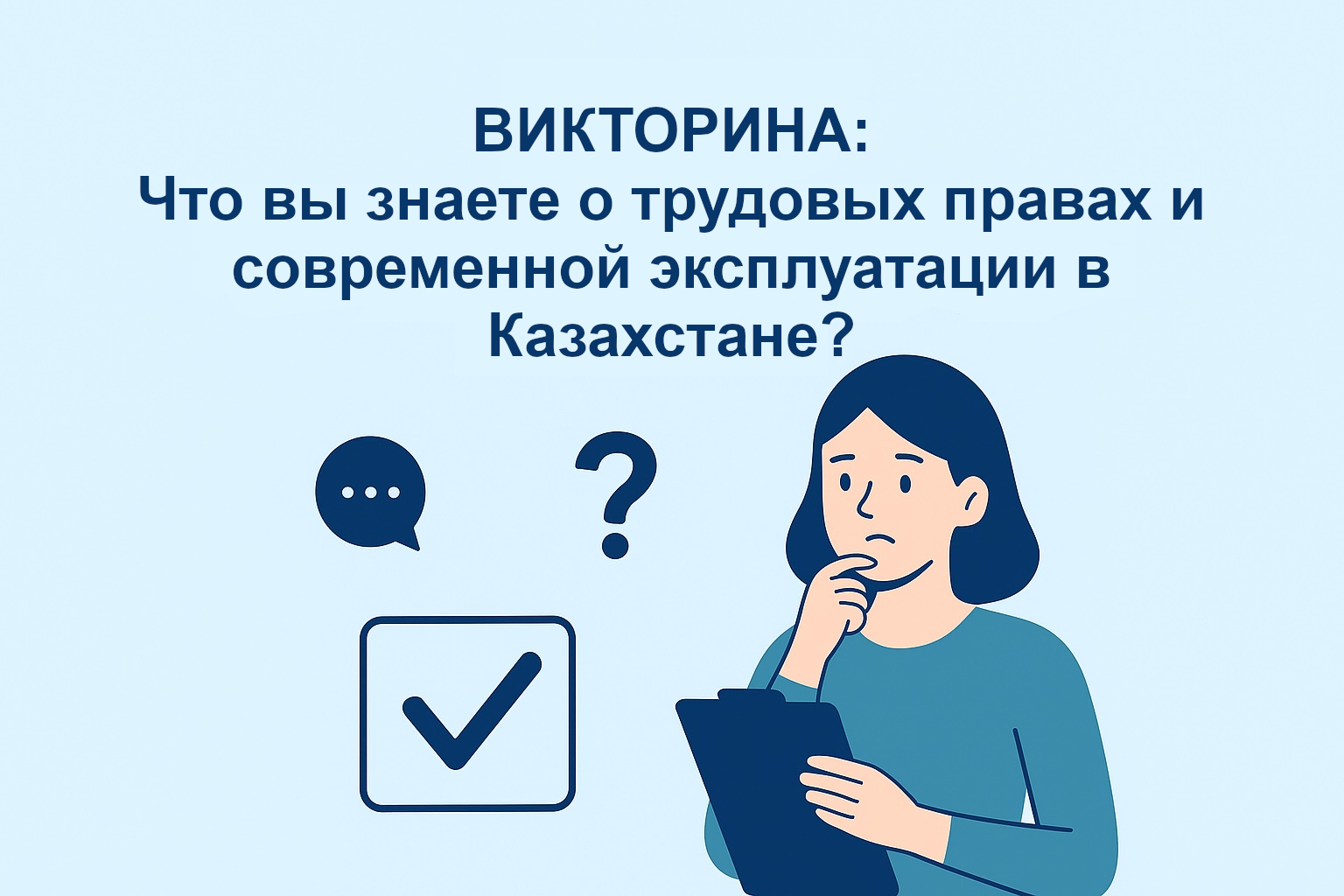События последних двух месяцев в Казахстане, связанные с активизацией религиозных экстремистов, совпали с появлением Агентства по делам религий, пришедшего на смену Комитета по делам религий при Министерстве культуры. Параллельно была заявлена идея о разработке концепции умеренного ислама.
Однако недавний бой с экстремистами в Алматы, кровавые события в Актюбинской области, связанные с атаками на полицейских группой салафитов и попытка побега заключенных из тюрьмы города Балхаша с последующим их самоподрывом, позволяют думать о том, что страна перестает быть островом религиозной стабильности в Центральной Азии.
Мы попросили прояснить ситуацию Нинель Фокину, председателя Алматинского Хельсинкского комитета, эксперта в области свободы религии.
Есть ли необходимость в такой правительственной структуре как Агентство по делам религий?
– Вообще любой государственный орган по делам религий — это орган надзора и контроля. И чем выше его статус, тем хуже. И в первую очередь хуже не для религии, а для людей. Потому что религия — это есть нечто настолько интимное и глубокое, что вообще не должно контролироваться государством никак, если исходить из сути статьи 18-ой Международного пакта о гражданских и политических правах (ратифицирован Казахстаном в 2005 году) и толкования Комитета ООН по правам человека по этой статье, если исходить из сути наших обязательств по ОБСЕ. Ничего хорошего от Агентства не жду. И вот почему. Их функции, их компетенции не прописаны законом. В лучшем случае они были прописаны постановлениями правительства, т.е. подзаконными актами, но чаще всего (это касается Комитета по делам религий) это были постановления сначала Министерства юстиции, затем Министерства культуры. Все эти акты и постановления в общем-то малодоступные, что прямо противоречит Конституции — права человека не могут быть ограничены, особенно подзаконными актами! А в этих подзаконных актах прописываются такие процедуры, ограничивающие права, как цензура (религиоведческая экспертиза — а это ничто иное, как цензура), прописывается порядок якобы явочной регистрации малых религиозных групп.
Полномочно ли Агентство противодействовать религиозному экстремизму?
– Сам термин «религиозный экстремизм» введен законом о противодействии экстремизму в 2004 году, и так же как все другие термины — информационный экстремизм, политический экстремизм — не определен. И под это юридически неопределенное понятие может попасть все, что угодно. Невежественные прокуроры, невежественные следователи, невежественные судьи объявляют, что найдена экстремистская литература религиозного содержания. Кто сказал или доказал, что она экстремистская? Если противодействовать чему-то нарушающему общественный порядок, нравственность или другие признанные обществом нормы, так для этого существуют силовые структуры. Получается, у нас еще один госорган на уровне министерства, наделенный особыми функциями по борьбе с антиобщественными явлениями.
Одним из первых заявлений Агентства о себе стало высказывание его председателя Кайрата Лама Шарифа о принципе «одна нация — одна религия». Сказано ли это случайно или такова государственная политика?
– Меня очень воодушевил запрос депутата Темирбулатова, подписанный Аугуль Соловьевой и Сатом Токпакбаевым, премьер-министру по поводу заявления новоиспеченного председателя Агентства по делам религий о том, что он хочет разрабатывать совершенно новую государственную концепцию. Депутаты исходили из духа и буквы Конституции, из духа и буквы наших международных соглашений и считают, что подобное заявление нарушает и Конституцию, и международные соглашения. Заявление председателя Агентства вместе с идеей разработки концепции умеренного ислама — это из той же области, что и борьба с религиозным экстремизмом. Мне кажется, что это большая афера нашего «замечательного» Комитета национальной безопасности, которая предшествует какому-то значительному государственному акту в виде новой атаки (к примеру, новое законодательство), либо в виде внесения в список запрещенных еще какого-то религиозного течения. И то, что сейчас делается под флагом борьбы с религиозным экстремизмом, мне кажется кануном какого-то шага.
И все же появление Агентства совпало с всплеском религиозного экстремизма. Что стоит за этими конкретными действиями: ответ на прежние притеснения или нечто иное?
Начнем со «старых грабель». Что получили таджики в начале 90-х годов, когда задавили политическую оппозицию? Она ушла за кордон и превратилась в исламскую оппозицию. Что получил Ислам Каримов в Узбекистане, когда задавил политическую оппозицию? Он получил десятки тысяч религиозных заключенных. Мы сейчас идем по тому же пути, и я полагаю, что это одна из форм сегодняшней молодежной «фронды». Очень схожа ситуация с 1986-м годом, когда на улицы Алма-Аты вышла молодежь. Кто сейчас ходит в мечети, особенно в те, что не связаны с Духовным управлением мусульман Казахстана? В основном молодежь, особенно та ее часть, которая приехала из провинции, малообразованная, без перспектив на будущее, на семью, на жилье и прочее. На последней операции в Астане взяли 260 «экстремистов». А по какому принципу задерживали? Борода и подвернутые штаны. То есть, по внешнему. Но ведь само государство подтолкнуло этот процесс, когда фактически поощряло и инициировало строительство тысяч мечетей, которые строили нам иностранцы — Саудовская Аравия, Египет и немного Турция. Свыше полутора тысяч мечетей построено в течение 7-10 лет. Само государство подтолкнуло молодежь ходить в мечети, когда разрушило или привело в негодность все спортивные сооружения, все клубы по интересам. Теперь оно в отчаянии смотрит, что же с этим делать, и пытается все эти мечети подтянуть под влияние Духовного управления мусульман Казахстана. Государство видит угрозу в том, что его граждане пытаются как-то осмыслить свое существование и за это подвергают их, еще не совершивших противоправных действий, репрессиям. Это очень и очень опасно! Нужно понимать, что в Казахстане у человека, подвергнутого несправедливым репрессиям, окажется сто-двести-триста родственников, недовольных существующей властью.
Начиная с 1997 года, через пенитенциарную систему прошли порядка тысячи человек по признакам разжигания религиозной розни и религиозного экстремизма. Умножим эту цифру на 200, в результате получим двести-триста тысяч взрослых людей, недовольных существующим строем. Мы уже видим результаты таких действий в Таджикистане, Узбекистане. Одним словом, те же грабли.
Бытуют мнения, что в парламенте и администрации президента есть люди, которым это выгодно. Взять, к примеру, племянника президента Кайрата Сатыбалды с его религиозным движением «Ак-орда». Не может ли всплеск радикализма быть чьим-то проектом? Или власти пытаются таким образом влиять на возможную радикализацию верующих?
Взять под контроль ситуацию с верующими невозможно. Тем более, такими топорными методами. Если бы государство было бы на самом деле озабочено ростом влияния ислама, особенно на юге Казахстана, оно бы не давило протестантские движения как противовес. Особенно протестантские движения, куда уходят казахи. Относительно «верха». Начнем с попытки К. Сатыбалды создать странное полуспортивное-полупартийное-полурелиигозное движение о трех головах, когда он еще был генерал-майором КНБ. Эта идея была очень странная и весьма опасная. Она наталкивала на мысль, что существует небольшой отряд спортивно организованной молодежи, вооруженный партийно-релиигозными идеями, которая в определенный момент может быть призвана для проведения какой-то акции. Возьмем историю с коранитами, которых возглавил сын Аслана Мусина (руководителя Администрации президента — А.Г.). Странно и то, что сын высокопоставленного чиновника выступает не только с идеологическими постулатами, он же еще читает лекции в КНБ о том, каким должен быть ислам. Все это похоже на некие «пробы пера» сверху, которые связаны с желанием иметь управляемую силу для определенного момента.
Есть ли обиженные в нашем толерантном государстве?
Мы ведем статистику. С начала и до середина 90-х годов обижены были в основном протестанты — Свидетели Иеговы, пятидесятники, Адвентисты седьмого дня, пресвитериане, баптисты (которые не регистрируются принципиально), иногда попадали лютеране. Преследование в основном шло в административном порядке за осуществление религиозной деятельности без государственной регистрации. Потом этот спектр расширился: стали преследовать за отсутствие образовательной, медицинской лицензии. Затем стали отнимать собственность, здания. Однако, начиная с 2000 года, эта политика перекинулась на исламские организации. Сначала были члены «Хизб-ут-Тахрир», их обвиняли в разжигании межрелигиозной розни и попытках изменения конституционного строя. Это уже уголовное преследование. Начали сажать. Кончилось тем, что «Хизб-ут-Тахрир» внесли в список запрещенных. После этого перекинулись на салафитов. Теперь на суфистов и на множество мелких неизвестных групп, а зачастую на людей, даже не ходящих в мечеть, но имеющих какие-то записи, читающих материалы в Интернете и имеющих свое мнение. И сейчас внесудебные сроки даже могут подменяться внесудебными убийствами, подобное тому, что произошло в Актюбинской области. Но даже по закону Ньютона: чем жестче давление, тем жестче будет сопротивление.
ИСТОЧНИК:
Интернет-журнал «Оазис»
http://www.ca-oasis.info/oasis/?jrn=158&id=1222
Дата публикации: 4 августа