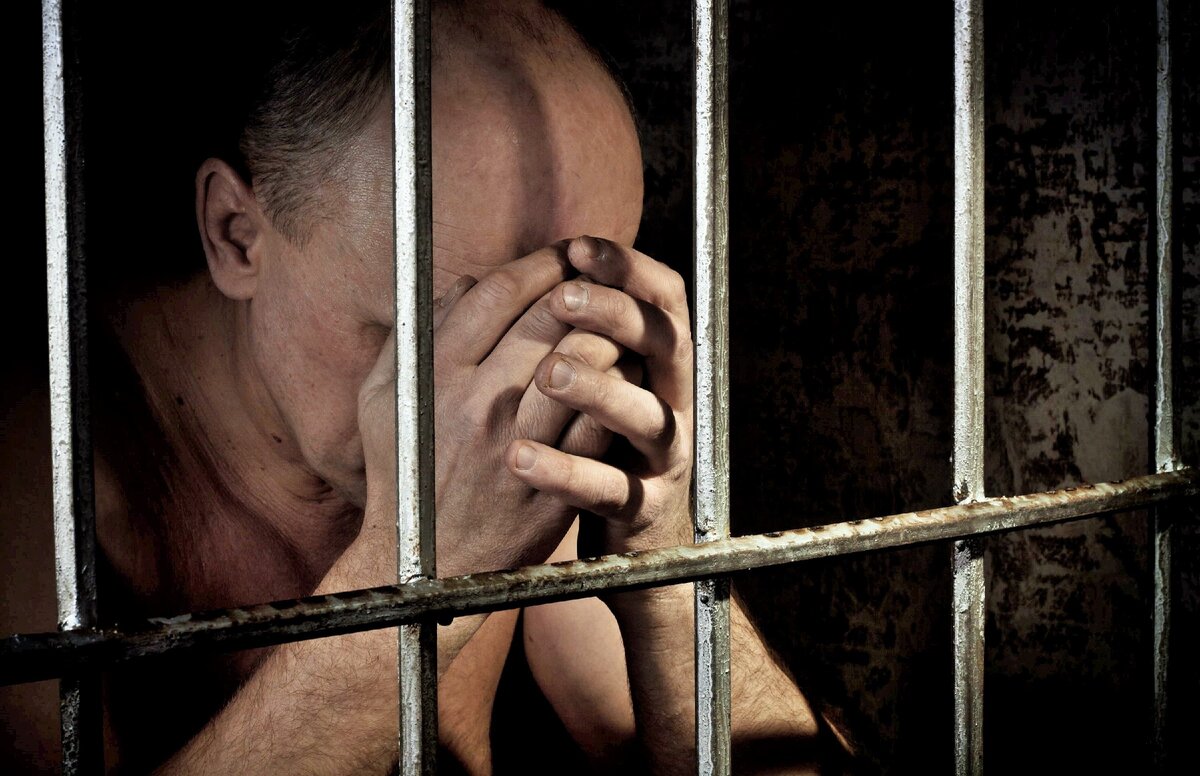Этот длинный пост является в первую очередь обращением к дипломатическим корпусам (консульствам) Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, расположенным в Казахстане. Темы, которые в нём поднимаются, также касаются деятельности казахстанского адвокатского сообщества, в особенности вопросов работы государственных защитников. Кроме того, очень надеюсь, что независимые журналисты, СМИ и правозащитники обратят внимание на описываемые проблемы. При необходимости я могу предоставить контакты семей, о родственниках которых говорится в этом материале.
Я хотел бы рассказать о сложностях, с которыми сталкиваются граждане соседних центральноазиатских стран – в первую очередь Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, – находящиеся в следственных изоляторах или тюремных учреждениях Казахстана. В частности, о том, что консульства или посольства этих трёх государств не посещают и никак не отслеживают положение своих граждан в заключении, а также не реагируют на их письменные обращения, отправляемые из-за решётки. Так как я сам провёл 12 месяцев в следственном изоляторе Алматы, известном в народе по старому названию СИ-18, то буду рассказывать на примере контингента этого учреждения.
Сотрудники Учреждения №72 (официальное название алматинского СИЗО), расположенного на окраине южной столицы, очень часто то ли важничая, то ли угрожая, повторяли, что этот следственный изолятор самый крупный во всей Центральной Азии. По проекту в нём может одновременно содержаться до 1350 заключённых, но, по утверждению самих же работников, это число часто доходит до 1500-1600 человек. Я сам лично часто сталкивался с тем, что в стандартную восьмиместную камеру помещали от 10 до 12 человек, и мне приходилось конфликтовать с администрацией из-за этого. В то же время, например, подследственные, которые проходили по январским событиям и делу банды Дикого Армана, располагались в восьмиместных камерах максимум по два человека и занимали целых два коридора из 24 камер.
Что касается иностранных граждан, к которым в том числе относился и я сам, то их число, по моим оценкам, постоянно находилось на уровне не менее 50-60 человек. Каждый месяц в местную казахстанскую тюрьму или по экстрадиции на родину этапировалось в среднем 10 человек, но их сразу же заменял новый десяток арестованных.
Первые две недели в СИЗО человек находится в так называемой зоне карантина на первом этаже. Подразумевается, что там должно быть проверено здоровье арестантов на возможное наличие легко передаваемых болезней. Там заключённые делятся только на тех, кто впервые попал за решётку, и тех, кто уже имеет опыт нахождения в местах лишения свободы. В остальном иностранцы и граждане Казахстана находятся в камерах вперемешку.
Через положенные 14 дней из карантинной зоны поднимают на верхние этажи, где находятся камеры постоянного содержания. Там граждане зарубежных государств помещаются в отдельные от казахстанцев камеры и даже часто в отдельный коридор, который неофициально называется «транзитный продол» или просто «транзит». В одну из подобных камер, в которой уже находились девять иностранцев, попал и я. Сразу после знакомства и некоторого общения, в первый же день я написал восемь писем-заявлений в консульства Узбекистана и Таджикистана от имени своих новых сокамерников. Тогда ещё во мне была наивная надежда на то, что дипломаты указанных стран должны и будут реагировать на просьбы и жалобы своих соотечественников. Но время и личный опыт показали, что это абсолютно не так.
Во-первых, надо сразу рассказать об иностранном контингенте СИ-18 по странам. Больше всех среди них граждан Узбекистана (коим и я сам являюсь) – не менее половины (а то и 60%) – это уроженцы двенадцати узбекских областей и Республики Каракалпакстан. Далее по численности идут граждане Таджикистана, чуть меньше из Кыргызстана. На остальные страны приходится всего лишь 15-20% – из России, Китая, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении, стран Восточной Европы и Юго-Восточной Азии и т.д.
Подавляющее большинство иностранцев задержаны по розыску и экстрадиционному запросу тех стран, гражданами которых они являются, то есть уголовные дела против них заведены на родине. По моим наблюдениям, только в каждом десятом случае иностранный гражданин был задержан за преступления, совершённые в Казахстане.
Очень часто задержание иностранца происходит в аэропорту при прилёте в Казахстан или при попытке покинуть страну. Но в случае с гражданами Узбекистана, Каракалпакстана и Таджикистана чаще всего это аресты на рабочем месте – на строительных объектах или в пунктах общепита, где обычно трудятся выходцы из этих двух государств. Не раз я видел людей, которых сотрудники полиции забрали со стройки или из какой-нибудь пекарни в том, в чём они были одеты. В лёгкой футболке, шортах и резиновых тапочках они летом попадали в следственный изолятор, и у них не находилось знакомых или родственников в Алматы, которые могли бы привезти им сменную одежду. В итоге все, кто мог, из милосердия и чувства взаимопомощи, одевали и обували таких сокамерников. А учитывая, что экстрадицию на родину арестант в среднем ждёт от 4 месяцев до полугода (иногда дольше), с наступлением осени и зимы приходилось делиться и тёплой одеждой, вплоть до зимней обуви, свитеров и курток. Например, был сокамерник с двойным гражданством Таджикистана и России, уголовное дело против которого заведено в РФ. Его этапировали поездом в середине декабря, а из тёплого у него ничего не было, кроме летней спортивной ветровки. Вот и собирали его в долгую дорогу (продолжительностью со всеми остановками и этапами от нескольких недель до месяцев) всей камерой: кто-то давал тёплые подштанники, кто-то штаны, третий – шапку и куртку, я дал зимние сапоги и так далее.
Вы спросите, а где же друзья и знакомые этих трудовых мигрантов или даже их родственники? Дело в том, что многие из них работают в Казахстане нелегально, поэтому коллеги арестованных иностранцев боятся контактировать с правоохранительными органами, в том числе посещать следственный изолятор, где, например, во время передачи посылки нужно предъявлять оригинал документов. Кроме того, большинство из них приезжает на заработки в Казахстан совершенно одни и без семьи, и после ареста у них нет возможности сообщить близким на родине о своём задержании. Сразу после ареста у них изымают телефон и часто не дают возможность совершить один звонок за границу или написать по WhatsApp. А в самом следственном изоляторе хоть и имеются таксофоны Казахтелеком, и во внутреннем магазине СИЗО (да, и такой есть) продаются платёжные карты к ним, они не разрешены к использованию для следственно-арестованных – совершать звонки могут только те, у кого уголовное дело в Казахстане и по которым уже вынесен приговор. Одним из моих сокамерников был гражданин Кыргызстана, которого задержали сразу после прилёта в Алматы из третьей страны. За все семь месяцев нахождения в СИ-18 он так и не смог сообщить своим родственникам, где он находится. Для близких человек как бы пропал без вести.
Оповестить семьи иностранцы могли бы через государственных адвокатов, которые по закону им выделяются и работа которых оплачивается из казны (но, насколько я понял, потом компенсируются иностранцем по возвращении на родину). Но они фактически появляются только один раз во время десятиминутного онлайн-суда по назначению срока экстрадиционного ареста, а потом пропадают. Никаких посещений иностранного гражданина в СИЗО со стороны госзащитников не происходит. Ни разу за все 4-6 месяцев.
Конечно же, заключённые понимают, что в первую очередь они сами несут ответственность за совершённые преступления и такие их последствия в виде ареста и связанных с ним лишений. Но очень часто у всех них справедливо возникает вопрос: где же представители их родных государств в лице консульств и посольств, которые должны хотя бы интересоваться положением своих соотечественников? Поэтому в первый же день, как я попал в свою первую камеру под номером №82, все находившиеся там иностранцы, кроме Дмитрия из России, попросили меня помочь написать заявления в генеральные консульства Узбекистана и Таджикистана с описанием накопившихся за полгода проблем. За последовавшие 12 месяцев моего нахождения в СИЗО таких обращений, заявлений, просьб и жалоб на имя консульских органов от арестованных кыргызстанцев, таджикистанцев и узбекистанцев было составлено десятки. И ни разу никто не получил ответа. Не говоря уже о каком-либо посещении задержанных соотечественников дипломатами.
Ещё хуже дело обстоит, если уголовное дело против иностранца возбуждено в Казахстане. Я имел возможность ознакомиться с несколькими приговорами по таким делам, и каждый раз приходил к мысли, что из-за фактического безучастия государственных адвокатов людям выносились тюремные сроки и назначались штрафы гораздо больше тех, чем человек мог бы получить при соответствующей юридической поддержке. Более того, с момента моего освобождения ко мне постоянно обращаются родственники тех, с кем я находился в одной камере и которые до сих пор ждут экстрадиции или уже отбывают в Казахстане срок в местах лишения свободы. Некоторые из них, с учётом уже проведённого за решёткой времени, имеют право подать прошение о смягчении наказания, но не могут это сделать из-за того, что, например, у них уже год или два назад истёк срок действия паспорта, а консульство той страны, гражданином которой является иностранный арестант, всё это время никак не реагирует на письменные просьбы выдать новый документ. В итоге человек, который уже излишне пострадал во время следствия и суда, вынужден ещё находиться в местах лишения свободы сверх того, чем мог бы.
Интересно, что осенью 2023 года, когда меня вызывали в Генеральное консульство Узбекистана и настойчиво просили, чтобы я «смягчил тон» своих заявлений по поводу происходящих репрессий против этнических каракалпаков и общей ситуации в Республике Каракалпакстан, со мной разговаривал нынешний узбекский Генеральный консул в Актау Жамолиддинхужа Абдукаримов. На тот момент он был помощником консула в Алматы Фатхуллаева Аброра Джахонгировича. И оба они во время той встречи, как и не раз во время других бесед, убедительно заявляли мне, что «арест любого гражданина Узбекистана за рубежом – это их личная тревога и профессиональная ответственность». Что в таких случаях лично господин Абдукаримов скорейшим образом едет в ИВС или СИЗО, чтобы разузнать о положении соотечественника и оказать ему всяческую поддержку. Но за все 12 месяцев моего нахождения в СИ-18, а также во время содержания под арестом других каракалпакских активистов в Алматы, Астане и Актобе, никто и никогда не видел и не слышал от других сокамерников, чтобы следственный изолятор посещали консульские работники. Такая же ситуация и с положением заключённых из Таджикистана и Кыргызстана, с аналогичным безразличным отношением к своим согражданам со стороны дипломатов этих стран. В отличие от них, диппредставительства России, Китая, а также стран дальнего зарубежья хотя бы раз в квартал наведываются к своим арестованным соотечественникам.
Кстати, нынешний Генеральный консул Узбекистана в Алматы господин Матчанов Раушанбек родом из Республики Каракалпакстан. Поэтому надеюсь, что хотя бы через такого должностного земляка моя публикация и в целом описанные в ней проблемы дойдут до сведения узбекских дипломатов или, ещё лучше, до Министерства иностранных дел в Ташкенте. И наконец представители консульств и посольств Узбекистана начнут посещать своих соотечественников в местах их заключения за рубежом. В том числе в крупнейшем во всём регионе СИЗО Алматы, как хвастаются сами сотрудники, где постоянно находится не менее крупнейшая среди иностранцев группа узбекских граждан.
И последнее. Прикрепляю к этому посту отрывок недавнего видеоинтервью журналистки Шахиды Тулягановой на тему бездействия консульств в вопросах помощи и защиты своих сограждан, в частности, от принудительной отправки на войну в Украине.
Если ещё можно хоть как-то понять (но не принять), что узбекские дипломаты не решаются вступать в борьбу с российской военной системой за права и даже жизни своих соотечественников, то совсем непонятно отсутствие даже базовой поддержки граждан своего государства в мирном Казахстане (например, в вопросе замены паспорта). И этому нет абсолютно никакого оправдания.
ИСТОЧНИК:
x.com/muratbaiman/status/1963499300849131995