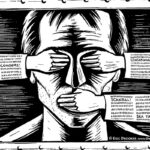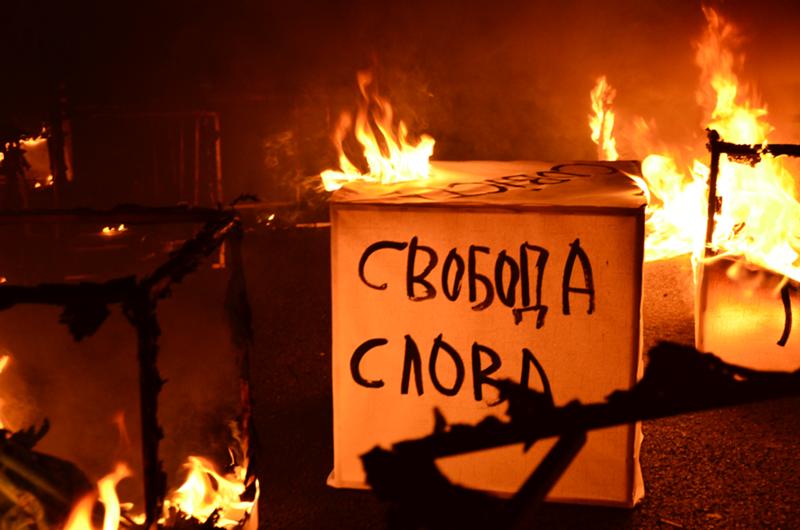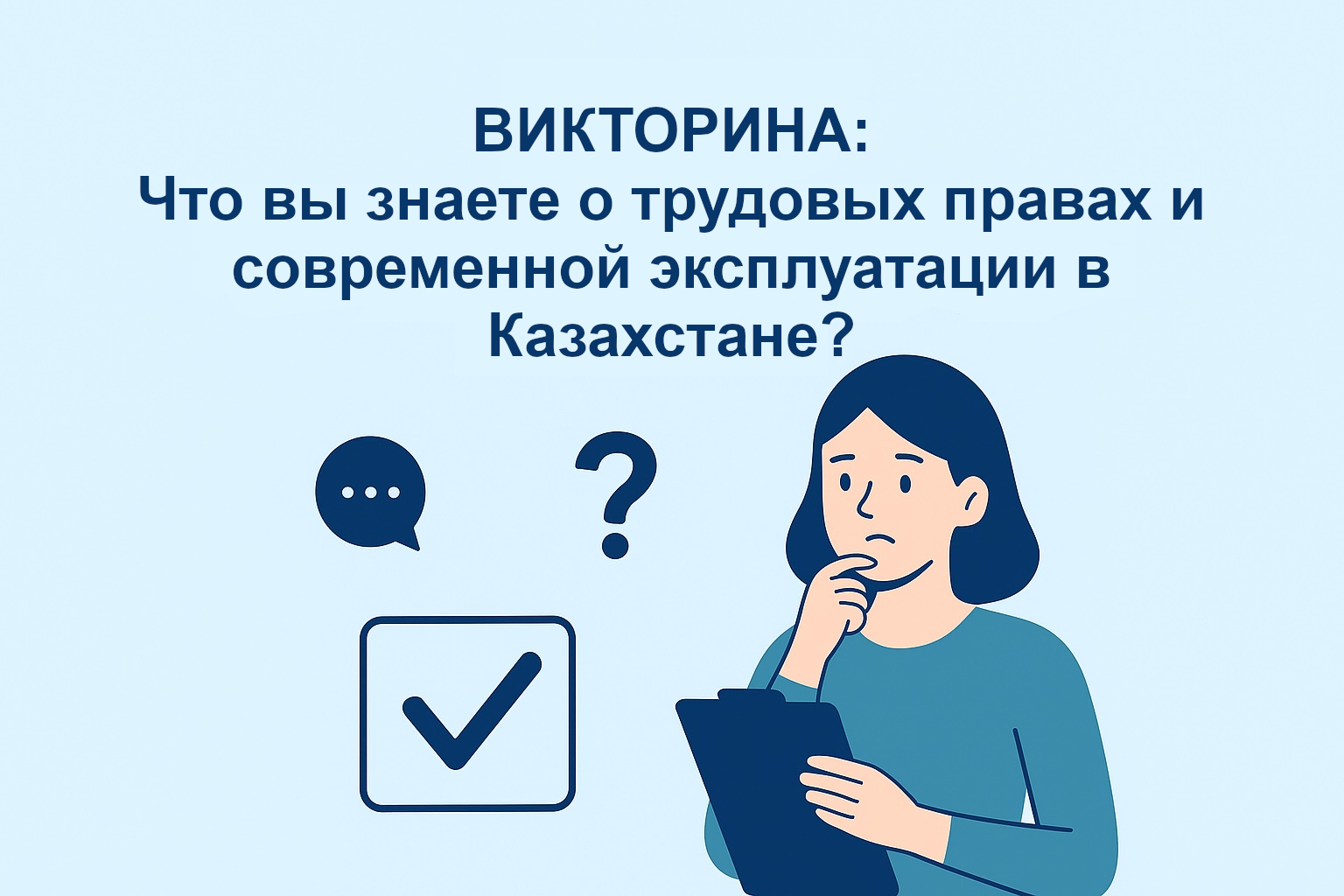Мы живем в каком-то сюрреалистическом мире. Лучше всего его, наверное, могли бы описать Франц Кафка и Джордж Оруэлл (кто не читал, очень рекомендую). Потому что объяснить происходящее вокруг с точки зрения рациональности, то есть фактов, логики, четких аргументов, зачастую просто невозможно.
Несколько лет назад перед Новым Годом на небольшой вечеринке любителей ветеранского футбола мой товарищ выдал весьма своевременный, как мне кажется, тост. Он сказал, что, когда был молодым, выбирал себе друзей по душе. С кем, пусть не всегда легко, но есть общность представлений о жизни, о том, что хорошо, а что плохо, о дружбе и т.д. Потом он понял, что много друзей не бывает, да и с возрастом все сложнее их находить, поэтому стал просто больше общаться с теми, у кого с ним общие интересы (футбол, рыбалка) и/или кто профессионален, компетентен, просто умен. Но, последние пару лет, как он отметил, стало уже «не до жиру», ищешь просто адекватности.
Того, чем я занимаюсь, а именно международное право, права человека, юриспруденция, эти тенденции тоже коснулись.
Почти двадцать лет назад, в 2006 году, существовавшая до этого Комиссия ООН по правам человека была заменена Советом ООН по правам человека (СПЧ). Главная идея заключалась в том, что с этого времени была установлена единая процедура периодической, раз в 4-5 лет, отчетности всех стран мира в этот орган об их успехах в области уважения, продвижения и защиты прав человека.
Так вот в этот СПЧ уже три или четыре раза отчитывались об «успехах» в области выполнения своих международных обязательств по защите прав человека государства с самыми репрессивными политическими режимами – Северная Корея, Эритрея, Туркменистан и Экваториальная Гвинея.
А рекомендации по правам человека отчитывающимся государствам, в том числе демократическим, в настоящее время представляют выбранные по региональным квотам действующие члены Совета Куба, Китай, Судан и та же Эритрея.
Здесь трудно говорить о каких-то универсальных ценностях, международных стандартах или критериях в области прав человека. Мы вообще про что?
Советский Союз как одно государство и отдельно Россия, Украина и Беларусь еще в 1973 году ратифицировали, то есть взяли на себя юридические обязательства по выполнению,
Международный пакт о гражданских и политических правах. Со всякими там свободами слова, религии или убеждений, собраний и объединения, передвижения, участия в управлении своей страной, недискриминации. А почти 50 лет назад было создано Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (ныне – ОБСЕ). В разделе VII принятого тогда Заключительного Хельсинкского Акта прямо было написано об уважении прав человека.
И что? И ничего. Это как в том же СССР: вы делаете вид, что нам платите, мы делаем вид, что работаем. А здесь: вы (страны с тоталитарными и авторитарными политическими режимами) делаете вид, что выполняете свои обязательства в области прав человека, мы (международные организации) делаем вид, что вам верим.
Такая «Realpolitik» – реальная политика, которая доминирует над сформулированными после Второй мировой войны универсальными ценностями.
Лет пятнадцать назад на одной конференции я использовал такой тезис, что в современном мире у демократии, верховенства права, прав человека и гражданского общества есть четыре «врага»: вепонизация (weponization) нефти и газа, подмена борьбы с терроризмом и экстремизмом борьбой с политической оппозицией и гражданским обществом и геополитические соображения. К ним в настоящее время можно добавить и пятого врага – дезинформацию и агрессивную пропаганду, осуществляемую тоталитарными и авторитарными государствами в СМИ, и особенно в Интернет-пространстве и социальных сетях. Все эти «враги» в той или иной степени, как ни печально это констатировать, побеждают, причем, как на международном, так и на национальном уровнях. Вся международная система безопасности и ценностей трещит и распадается на глазах, а права человека являются заложниками этих процессов.
Это, так сказать, медицинский факт, реальная оценка ситуации. К ней нужно добавить еще одно. В английском языке есть два принципиально разных понятия: «rule of law» и «rule by law». Первое в переводе означает «верховенство права» («верховенство закона»), то есть, что все равны перед законом, нет никого выше закона, и поддерживается оно независимой судебной властью и подчиняющимися только закону правовыми институтами. Причем основывается верховенство права на четырех принципах: ответственности, справедливости законов, открытости управления и доступности и беспристрастности правосудия.
А второе переводится как «управление при помощи закона», когда политическая целесообразность и авторитарные методы управления в рамках монополизированной политической системы позволяют формулировать и применять закон для решения конкретных политических задач. То есть, политика первична по отношению к праву, а верховенство права весьма относительно и действует до того времени, пока не сталкивается с политикой.
Все это, конечно, печально, создает грустное представление о происходящем, но пока еще не сюрреалистично.
А вот дальше, когда сталкиваешься с тем, что и как диктует праву, видимо, политическая целесообразность, начинаешь с трудом придерживать обеими руками собственную «крышу» от непоправимого перемещения.
Приведу пару примеров.
Первый. В середине 2022 года организационным комитетом из числа членов инициативной группы по созданию политической партии «BIZDIN TANDAU» было подано в Министерство юстиции Республики Казахстан (МЮ) уведомление о намерении создать политическую партию. Через несколько дней заявители получили письмо, в котором содержался отказ в приеме документов, и было указано на несоответствие представленного списка инициативной группы требованиям закона, правда, без указания, в чем именно выражается это несоответствие.
Заявители обратились в суд с требованием обязать МЮ предоставить им полную информацию о причинах отказа в приеме документов, причем с указанием конкретных страниц списка инициативной группы и фамилий граждан, данные о которых, по мнению МЮ, не соответствуют требованиям действующего законодательства.
МЮ ответило в отзыве на исковое заявление, что в представленном списке инициативной группы граждан по созданию политической партии выявлены сведения об умерших гражданах, несовершеннолетних, иностранных гражданах и других гражданах (неидентифицированные лица, неправильные ИИН и повторно приведенные фамилии), что является нарушением. Кроме того, МЮ указало, что конкретную информацию об этих нарушениях оно предоставить заявителям не может, так как, согласно требованиям законодательства о персональных данных, обязано обеспечивать конфиденциальность данных этих граждан и не может их распространять без согласия субъекта или его законного представителя либо при отсутствии иных законных оснований.
В сентябре 2022 года Специализированным межрайонным административным судом города Астаны было вынесено решение об отказе в удовлетворении иска заявителей к Министерству юстиции Республики Казахстан, где суд тоже сослался на положения законодательства о персональных данных и их защите, как обосновании правомерности действий МЮ РК в части отказа в предоставлении заявителям конкретных данных о тех гражданах и других лицах в представленном заявителями списке членов инициативной группы, которые по мнению регистрирующего органа не соответствуют требованиям законодательства.
В октябре 2022 года заявители обратились с апелляционной жалобой в Судебную коллегию по административным делам суда города Астаны, которая оставила в силе решение суда первой инстанции, но написала, что поскольку сведения и документы, запрашиваемые у МЮ ограниченного доступа и для служебного пользования, то она не приобщила их к материалам дела и не ознакомила с ними заявителей, но сама с ними ознакомилась и пришла к к выводу, что основания отказа МЮ РК в выдаче подтверждения и начале подготовки учредительного съезда инициативной группы по созданию политической партии являются законными и подтвержденными.
Заявители подали кассационную жалобу в Судебную коллегию по административным делам Верховного суда Республики Казахстан, которая в начале 2024 года оставила все решения судов первой и апелляционной инстанций в силе.
Теперь от юридического языка перейдем к нормальному, человеческому, чтобы попробовать объяснить это Зазеркалье.
Вы хотите создать политическую партию, или вообще какую-то некоммерческую или коммерческую организацию. Собираете учредителей, участников, потенциальных членов, принимаете решение, составляете документы, в том числе списки с персональными данными этих лиц, которые вам их предоставили, чтобы зарегистрировать эту самую организацию.
Вы отправили все необходимые документы в органы юстиции, которые их проверили и установили несоответствие с какими-то требованиями законодательства, и поэтому отказали в регистрации.
Вы спрашиваете у государственного органа, а что там неправильно, дайте мы сверим, может это у вас ошибка? Нет, говорит госорган, мы не можем разглашать персональные данные этих лиц без их согласия. Так это же наши лица, говорит уполномоченное этими лицами лицо. Это они меня уполномочили осуществить регистрацию организации и, соответственно, я имею полное право устранять ошибки, и вообще предпринимать все необходимые действия, чтобы в конце концов зарегистрировать организацию. Это же не разглашение персональных данных третьим лицам. Мы – вторые и даже первые лица.
Нельзя, говорит госорган, мы от вас защищаем персональные данные ваших соучредителей вашей же организации. Вы никогда не узнаете, какие ошибки вы допустили, соответственно, ничего не сможете зарегистрировать, потому что не сможете исправить неизвестные вам ошибки. Причем вы даже не знаете, а были ли ошибки.
Под «крышей» начинает тихо закипать…
Вы – в суд, помогите защитить наши права на объединение и создание организации. Как нам узнать, что там выявили органы юстиции, проверяя персональные данные лиц, которые мы им же и дали?
Нет, говорит суд, мы не можем вам такую информацию предоставить. Мы сами с органами юстиции проверим, и вы должны нам на слово поверить, что органы юстиции абсолютно правы. Такой большущий привет состязательности и равенству сторон, беспристрастности правосудия и т.д.
Если бы это применялось везде и всегда, в рамках, так сказать, единообразной практики, то, уверяю вас, невозможно было бы вообще ничего зарегистрировать и никакую справку получить, если что-то перепутали или ошиблись в каких-то данных даже членов вашей семьи.
Потому что госорган, защищенный «бронежилетом» защиты персональных данных, будет как попавший в плен партизан молчать том, какую конкретно ошибку вы допустили.
Но этого не происходит, и граждане, хоть иногда и делают ошибки, но создают организации, получают справки и т.д. Почему? А потому что в этом конкретном случае речь идет о регистрации оппозиционной политической партии, которую нужно не зарегистрировать. Потому что в отказе в регистрации такой организации есть «политическая целесообразность». А уж каким образом этот отказ оформить, тут органы юстиции и суд, как могут, так и обосновывают. Даже в сюрреалистических тонах.
Второй пример. В ноябре прошлого года гражданка Бурабаева обратилась в Акимат города Алматы с уведомлением о том, что она собирается провести два пикета по проблемам инвалидности: возле памятника Абаю и у монумента Независимости.
Кто не знает, согласно законодательству о мирных собраниях в нашей стране пикет бывает только одиночный. А два и более собравшихся уже митинг. Митинг из двух человек и регулирующийся законодательством о мирных собраниях одиночный пикет, в котором никто ни с кем не «собирался», уже сами по себе «крышу» перекашивают.
Кстати Комитет ООН по правам человека по вопросу одиночного пикета в решении по делу «Андрей Свиридов против Республики Казахстан» в 2017 году указал, что на мирное выражение отдельным лицом в общественном месте своего мнения не должны распространяться те же ограничения, которые применяются к собранию лиц.
И чтобы два раза не вставать, добавлю, что в законе о мирных собраниях указаны все виды таких собраний: собрание как таковое, пикетирование (одиночный пикет), митинг, демонстрация и шествие. Зато в статье 488 Кодекса РК об административных правонарушениях, которая называется «Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний», состоящее из этого самого закона, наказать могут, цитирую, и за «участие в ином публичном мероприятии», про которое в этом самом законодательстве, за нарушение которого привлекают к ответственности, ничего вообще не говорится. «Крыша» опять страдает!
Так вот Акимат гражданке Бурабаевой в пикете отказал. Этот отказ был подтвержден в конце декабря 2024 года Специализированным межрайонным административным судом города Алматы и в начале апреля 2025 года Судебной коллегией по административным делам Алматинского городского суда.
Что же Акимат вместе с судами нашли в качестве основания для отказа? То, что «пикетирование запрещается на объектах автомобильного транспорта и прилегающих к ним территориях». А согласно аргументам Акимата и выводам судов памятник Абая и монумент Независимости Республики Казахстан «расположены в границах прилегающих территорий к объектам автомобильного транспорта, что составляет расстояния менее 400 метров». И сделана ссылка на пункт 5 статьи 9 Закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», согласно которому пикетирование запрещается «на территориях, прилегающих к опасным производственным объектам и иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности».
Здесь нужно сделать необходимые пояснения с выдержками из законодательства. И так согласно статье 9 вышеупомянутого Закона пикетирование запрещается, помимо прочего, «на объектах железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта и прилегающих к ним территориях» (пункт 2) статьи 9) и в местах, определенных в пункте 5) выше.
И еще есть решение маслихата города Алматы от 23 июня 2020 года, согласно которому для запрета пикетирования «определить границами расстояние не менее 400 метров от прилегающих территорий объектов, предусмотренных пунктом 5 статьи 9 Закона».
Так вот Акимат с судами, мягко говоря, произвольно применили 400 метров к объектам автомобильного транспорта, указанным в пункте 2) статьи 9 Закона, хотя в решении маслихата они применены к объектам, указанным в пункте 5) той же статьи.
И тут сюрреализм проявился просто безгранично.
Согласно, правда, утратившему силу классификатору (больше нигде не удалось найти расшифровки понятия, даже в Законе об автомобильном транспорте) к объектам автомобильного транспорта относятся: административно-бытовое здание, автовокзал, автостанция, автобусный парк, диспетчерский пункт, центр технического осмотра автомототранспортных средств, многоуровневые транспортные развязки, дороги, проезды, подземные переходы с возможным размещением объектов обслуживания населения, автомойка, автостоянка, автопаркинг, парковка, гараж, вулканизация с возможным размещением сопутствующих объектов, автозаправочная станция (АЗС), станция технического обслуживания (СТО) с возможным размещением сопутствующих объектов.
То есть, если строго следовать аргументам Акимата и решениям судов, нельзя проводить одиночный пикет ближе 400 метров ко всем дорогам и проездам, гаражам и т.д. Как коренной алматинец, проживший в родном городе несколько десятков лет, могу утверждать, что нет у нас такого пустыря без дорог и прочих проездов, где можно было бы осуществить пикетирование. Даже в степи, уже находящейся в черте города, чтобы провести пикет, видимо, для привлечения внимания местных тушканчиков и прочих мышей-полевок, нужно куда-то подъехать, а потом 400 метров «пилить» пешком по бездорожью, чтобы соблюсти указанные требования.
Да, и что еще примечательно, что, судя по букве закона, решениям маслихата и судов «объекты автомобильного транспорта», «опасные производственные объекты и иные объекты, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности», к которым, видимо, относятся дороги, проезды, гаражи и СТО, требуют защиты от одинокого пикетчика или пикетчицы, которые захотели на два часа встать возле памятника Абаю или монумента Независимости. Для, видимо, обеспечения безопасности и пикетчиков, и объектов.
Важная, требующая особых мер, задача.
А ничего, что там гуляют сотни туристов, живут, занимаются бизнесом, ездят на машинах, торгуют тысячи людей? И все это меньше, чем в строго установленных законом и судами 400 метрах.
А как вообще в нарушение решения маслихата и судов по «объектам автомобильного транспорта» могут пройти участники демонстрации или шествия, которым сам маслихат разрешил это сделать? А все выделенные специальные места для проведения митингов находятся ближе 400 метров от «объектов автомобильного транспорта».
Ну, не хотите разрешать гражданам мирно собираться, в том числе с критикой ваших действий, так и скажите. Считаете мирные собрания политически нецелесообразными, не разрешайте на этом основании. Чтобы не было никаких иллюзий и разночтений.
А то большой урон наносится «крышам» здравомыслящих людей. Хотя кого это «наверху» беспокоит …